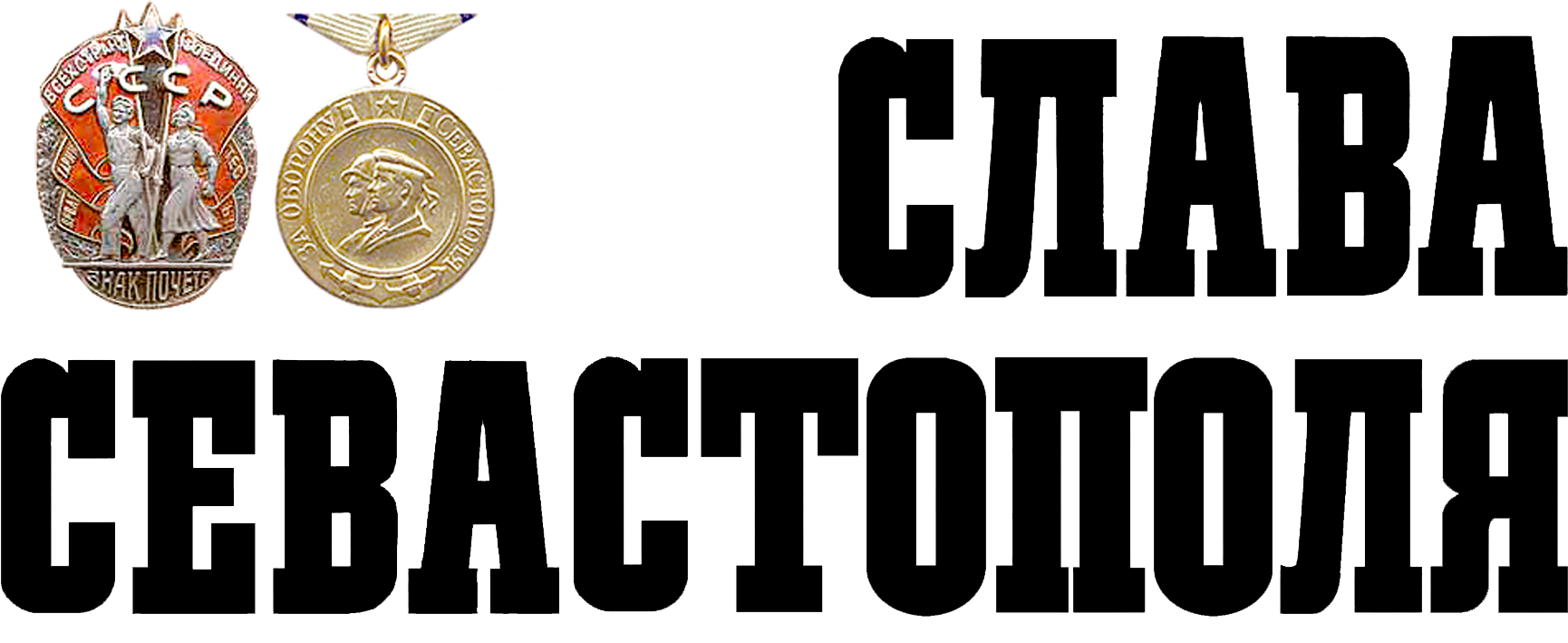— С деньгами не шутят. Без них — тем более…Вот почему в июле 1991 года, когда «Слава Севастополя» выкраивала, пребывая в объятиях хозрасчета, каждую копейку на газетную бумагу из далекой Балахны, вопрос покойного редактора Вл.Иванова показался мне прямо-таки кощунственным:
— А что, Леник, не слетать ли тебе к бабе Ванге? Репортажик заделаешь…
Два слова из этой редакторской тирады — «слетать» и «Ванга» в моем тогдашнем понимании уровня исполнимости были почти что в пределах сочетания «стартовать» и «на Луну»…
Но Владимир Иванович не шутил:
— Дорогу оплатим, а вот суточные уж тебе, извиняй, свалятся чудесным образом по велению и хотению бабы Ванги.
И, представьте, наше рандеву с великой болгарской прорицательницей состоялось. Вылетели мы в Софию на Ту-154 вместе с фотокором Татьяной Кирилловой в пятницу, а уже в воскресенье, проведя с двумя немцами из Гамбурга и болгарским полковником ночь в курятнике возле виллы бабы Ванги, предстали перед ее всевидящими (но напрочь слепыми) глазами.
Я опускаю все те милые (но абсолютно точные) подробности о себе и моей будущей судьбе, которые походя обронила мне баба Ванга, а вот что касается России, Украины и нашего города, в частности, то есть смысл вспомнить три детали из ее пророчества: она точно указала год воцарения В.Путина, назвав, кстати, его имя; Ванга успокоила крымчан, заверив, что «землетрус», т.е. серьезное землетрясение нам не грозит по крайней мере до 2020 года. Наконец старая болгарка предрекла «Белграду на Украине» — Севастополю-святому — устойчивое движение к процветанию с 2000 года, а, мол, девять лет до того хиреть будет белый град…
Что ж, сегодня с этим, пожалуй, трудно спорить, царство тебе небесное, баба Ванга!..Что же касается репортажа, то мы его, конечно, опубликовали, а Владимир Иванов, подписывая номер с этим материалом, вновь пошутил:
— Гонорара не будет. Довольствуйся имиджем.
Он очень часто любил шутить, Владимир Иванович. И самое лучшее в моей 35-летней журналистской судьбе связано именно с этим замечательным человеком.
— За мою довольно продолжительную трудовую жизнь, а работаю я корректором, случались и казусы, и явные «проколы». Ведь корректор должен не только вычитывать материал на ошибки, но также замечать многое-многое другое. А, как известно, кто не работает, тот не…
Вот пример из далекого прошлого, когда Л.И.Брежнев был Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Все Указы подписывали он и секретарь Президиума Верховного Совета М.Георгадзе. Публиковали очередной Указ, и на всех этапах полоса уже была подписана к печати. И вот метранпаж перед сдачей ее под пресс, никого не предупредив, решил внести свою лепту и набрал на линотипе фамилии более крупным шрифтом. Сделал он это с хорошими намерениями, но…перепутал строчки. Таким образом, Брежнев и Георгадзе поменялись ролями.
Газета печаталась ночью, а уже утром по тревоге мы были вызваны в горком «на ковер» и все «участники» получили по строгому выговору. Тираж, конечно, перепечатали.
А это уже из более близкого. Губернатором Чукотки был избран Роман Абрамович. При перепечатке материала из центральной прессы у нас получилось следующее: «В пресс-конференции принимал участие губернатор Чукоткин Роман Абрамович». На этот раз наш дорогой читатель ничего не заметил…
— В доперестроечное время чуть ли не половину редакционной почты составляли стихи. Большинство из них таковыми назвать было нельзя, и объясняли мы это авторам через газету, публикуя поэтические обзоры.
После одного из таких обзоров в отдел культуры зашел мужчина пенсионного возраста. Он достал из кармана «Славу Севастополя», развернул ее на столе и указал пальцем на одну из фамилий, жирно подчеркнутую авторучкой.
— Это я! — как нам показалось, с некоторой гордостью сказал он.
И тут же вручил ученическую тетрадь, заполненную от первой до последней странички его стихами. А они были того же пошиба: плохо зарифмованные строчки ни о чем. Убедить его в этом было невозможно. Здесь сыграла свою роль публикация обзора. Все критические замечания автор не принял во внимание. Важно то, что была названа его фамилия.
С тех пор он стал навещать нас по нескольку раз в неделю, принося все новые и новые опусы. Вежливо, стараясь не обидеть пожилого человека, ему разъяснили, что поэта из него не получится.
Когда мужчина пришел в очередной раз, все обреченно вздохнули. А он вытащил из кармана клочок бумаги.
— Здесь совсем коротко, — пояснил он. — Я вам прочитаю. И прочитал:
По всей стране от края и до края на лицах улыбки, отвага, задор.
Да здравствует 1-е Мая, красное, как помидор.
Находящиеся в отделе сотрудники не смогли сдержать слез от смеха. Улыбнулся и наш автор.
— Наконец-то вам понравилось, — с удовлетворением сказал он.
— В «Славу» я пришел осенью 1973-го. Журналистом хотел стать еще с пятого класса. Но чтобы поступить в вуз именно на отделение журналистики, нужны были публикации в прессе и характеристика из газеты. В выборе я не колебался: конечно, это будет только «Слава Севастополя» — знакомая и любимая с детства ведущая газета города. Не было затруднений и с определением тематики будущих выступлений: по вопросам культуры, и особенно изобразительного искусства. Родители — скульпторы, в Художественном фонде после школы стал работать шрифтовиком и я. Среди мастеров кисти и резца, как их любили именовать в прессе — масса знакомых, их среда и дело были понятны и близки.
Оставалось самое главное — договориться о наставничестве в самой газете: кто будет моим куратором, то есть станет резать и править мой юношеский бред (впечатления) от увиденных на выставках и в мастерских произведений. Проблему решил, и весьма оригинальным способом, отец. У него, как у всех творческих людей, были связи в отделе культуры газеты. Не раздумывая, он отправился к своему хорошему знакомому (который стал моим первым учителем-практиком на многие последующие годы и, слава Богу! — жив и работает и сейчас). У этого журналиста было страстное увлечение — шахматы. Этим решил воспользоваться отец, игравший слабо, но любивший обставлять все «красиво».И подготовился…
Переговоры велись тет-а-тет после работы в отделе культуры. Когда мой будущий наставник начал расставлять на доске фигуры, родитель жестом фокусника заменил пешки у обоих игроков маленькими стопочками, а затем разлил для белой армии водочку, а для черной — коньячок. Естественно, первыми пешки и погибли. Я не помню уже, сколько было сыграно партий и кто выиграл. Но через год у меня было уже много газетных вырезок, где под текстом стояла моя фамилия, и характеристика-рекомендация от «Славы Севастополя». Добавив к ним сданные на «отлично» вступительные экзамены, я поступил, каждое лето проходил здесь практику и весной 1980-го был принят в штат.
А шахматный матч оброс, как полагается, различными деталями и стал легендой, вспомнить которую иногда так приятно!